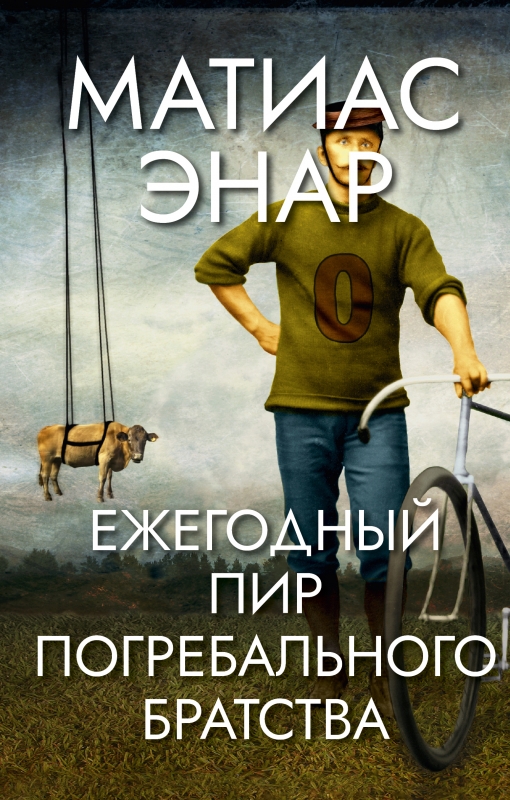Роман и воспитания ума, и воспитания чувств. Переводчик Алла Беляк о «Ежегодном пире Погребального братства»
ОГР, ПЕРЕВАРИВАЮЩИЙ КУЛЬТУРУ
Матиас Энар во Франции — это знаменитейший человек, немножко как у нас Быков. Он повсюду — ведет передачи на радио France culture, пишет романы, причем каждый страниц по пятьсот, лауреат Гонкуровской и других премий, у него галерея современного искусства в Париже, он преподает восточные языки (по-моему, персидский) в университете Лиссабона. Живет то там, то там, он великий путешественник, и жил на Востоке. Энар, кстати, и переводчик с персидского и арабского языков. Он такой... то, что французы называют ogre — всеядное чудовище, которое переваривает культуру и легенды. Он знает все, он все читал, и переваривает все это в какое-то яство для ума, в бесконечные какие-то истории. Это такая либо Шехерезада в мужском обличье, либо, намекая на внешнее сходство, Матиаса Энара очень часто сравнивают с Бальзаком — он тоже такой корпулентный человек с бакенбардами, в распахнутой на мощной груди белой рубашке, и, как Бальзак, пишет что-то, что можно назвать человеческими комедиями с бесконечным количеством персонажей, которые становятся из литературных — близкими и осязаемыми читателю людьми.
СИНТЕТИЧЕСКОЕ МЕГАТВОРЧЕСТВО
Каждый раз, приступая к новому роману, Энар перерождается. Он делает сальто-мортале и превращается в совершенно нового героя, каждый раз берет новые высоты. И новые вызовы возникают, в том числе и стилистические. Роман «Зона» — это пятьсот страниц, написанных одним предложением, где герой, путешествуя в поезде, длит одну и ту же фразу в размышлении ровно столько, сколько идет поезд. И на чтение книги уходит столько же времени, сколько уходит на поездку в поезде. Это об израильско-палестинском конфликте. Еще одна книга — «Расскажи им о битвах, королях и слонах» — это XV век, путешествие Леонардо да Винчи на восток. Роман «Компас» — про врачей. Но если говорить о каких-то общих чертах Матиаса Энара, это всегда — композиции, которые, с одной стороны, всегда очень погружены в саму ткань культуры с очень богатыми культурными отсылками, с другой стороны — с неистощимыми изобретательными сюжетами, и всегда очень близко подходят к загадке жизни и смерти.
«Ежегодный пир Погребального братства» — четвертое большое произведение, вышедшее на русском языке. В вашем издательстве выходил «Совершенный выстрел» в замечательном переводе Надежды Бутман. В «Иностранке» выходил «Вверх по Ориноко» и был издан «Компас». Причем четыре разных романа переведены разными переводчиками и, мне кажется, это очень символично. Энар — многоголосый и, может быть, одна из нас не справилась бы с таким могучим персонажем. Это огромное синтетическое мегатворчество, в котором есть какие-то перекликающиеся темы, безусловно, но нет переходящих героев.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
Первый раз за всю свою литературную жизнь, Энар вдруг возвращается к истокам, то есть в город, в котором он родился, где учился в лицее. Это в департаменте Дё-Севр — название происходит от двух рек с одним и тем же названием, которые протекают через него. Это местность на юго-западе Франции близко от Атлантики, но и рядом с двумя известными департаментами Вандеи, которые описаны в последнем романе Виктора Гюго «Девяносто третий год», место драматических событий восстания 1793 года. А этот регион по французским понятиям абсолютно Крыжополь, то есть дыра. Когда я начала переводить этот роман, я очень хотела съездить туда и пройти ногами по маршрутам героя, который много ходит. Это очень важно для переводчика — увидеть, где холм, где гора, где спуск, потому что словарь режет действительность не совсем одинаково в русском и французском языках. И то, что у нас пригорок, — у них может быть холм. Вот это надо знать, чтобы перевести правильно, не противоречиво. И я стала писать своим подружкам французским, что вот ищу спутника, походить по болотам, съездить в Дё-Севр... Они просто «посыпались», сказали, что это такое место, куда и за деньги не заманишь, это — дыра и там ничего не происходит. Так вот весь роман в 560 страниц Энара направлен на то, чтобы опровергнуть это предвзятое мнение, в том числе и самих французов! Там ого-го сколько всего происходит. Это та деревня, тот омут тихий, в котором, кажется, ничего не происходит, но там такая чертовщина и такие сюжеты, что можно не выезжать.
АЛЬТЕР ЭГО АВТОРА
На первый взгляд кажется, что альтер эго автора может быть главный герой, рассказчик, Давид Мазон — молодой французский этнограф, парижанин, который мучительно пытается высидеть в этом департаменте Дё-Севр свою докторскую диссертацию первой степени, для того чтобы получить место младшего преподавателя в вузе и перестать быть вечным студентом. Для этого он решает с помощью анкетирования опрашивать местных жителей и сделать большую работу, которая обеспечит ему кресло академика, совсем недавно освободившееся после смерти Леви-Стросса. Это диссертация на тему: «Жить в деревне». Я сначала подумала, что, может быть, он — альтер эго Энара. Но Мазон такой оболтус, смешной персонаж, абсолютно комический, что если переносить на Конан Дойла, то это, скорее, доктор Ватсон, такой оруженосец при главном герое. А потом увидела в одном из интервью, что Энар — это, на самом деле (не хочется спойлерить для тех, кто сейчас читает), главная женская героиня, которая училась в том же лицее, что и Энар, которая тоже дралась каштанами на школьном дворе... Как Флобер говорил: «Мадам Бовари — это я». Бывают случаи, когда главный герой-женщина — это отражение автора-мужчины.
С ИРОНИЕЙ И ЛЮБОВЬЮ
Энар относится к своему главному герою иронически и одновременно любовно, ведь это смешанный жанр — это роман воспитания чувств, но в данном случае я бы сказала — воспитания разума, потому что герой взрослеет. Приехав туда типичным горожанином, типичным парижанином, типичным молодым ученым-выскочкой, который считает, что он мало того, что знает все лучше, чем все, но еще и способен с высот науки анализировать, свысока смотреть на этих деревенских людей. И с каждым шагом понимает, что мало того, что он не может их анализировать и как-то структурно распределить, разложить по полочкам, оказывается, что он еще и не видит главного в жизни. В романе оказывается, что он проходит в двух сантиметрах от человека, который мог ему раскрыть глаза, который мог рассказать ему одну из самых потрясающих историй, трагических, произошедших на этой земле, а он буквально не услышал его, думал о другом, был погружен в свои мысли. И это вырастает в конце концов в большую метафору современной науки и часто — современной социологии и этнологии.
НЕЗНАКОМОЕ БЛИЗКОЕ
Как наука этнология прошла очень большой путь. Сначала это были просто записки путешественников, которые описывали смешных дикарей, потом это была этнография — то есть более систематизированное описание, которое собирали географические общества, их много появилось в начале-середине XIX века. Потом это стало этнологией, то есть уже не описывали, а изучали и систематизировали, это путь как раз к Леви-Строссу и дальше. Другая ветвь пошла к Малиновскому — включенное наблюдение, когда люди стали селиться, не со стороны смотреть, а пытаться быть частью. Иногда, конечно, их при этом съедали, как Кука, иногда им удавалось подружиться, или как-то стать частью этой жизни и понять ее изнутри.
На какой стадии мы сейчас, когда все изучено? Когда в самые удаленные уголки планеты вы сможете добраться пусть даже с дорогим, но туроператором. Этнография и социология, начиная где-то с 68-69 года, пошли по другому пути. Они стали изучать незнакомое близкое. Оказалось, что для парижан, например, жители пригородов представляют большую экзотику и более загадочны, чем жители Папуасии и Новой Гвинеи, которые описаны тысячи раз с картинками. И были очень интересные эксперименты. Например, французский писатель Франсуа Масперо написал книжку «Пассажиры Руасси-экспресса». Он сел на скоростную электричку, которая идет из парижского аэропорта, выходил на каждой остановке и, как путешественники в далеких странах, заходил в дома, говорил: «Здравствуйте, я Франсуа Масперо, а как вы тут живете, как вы выращиваете детей?» Вышла потрясающе интересная книжка! То есть я хочу сказать, что роман Энара вписывается, на самом деле, в давнюю научную традицию и с любовной иронией как бы перелистывает все методы анализа. Какие покорители незнакомых пространств из нас, теперешних горожан, которые впадают в панику, едва теряется вай-фай? Но у нас при этом есть много доброй воли, как у главного героя, и огромный потенциал адаптации, понимания, и, в конце концов, людей.
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ФРАНЦИИ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ
Роман имел оглушительный успех во время пандемии, потому что одна из его мыслей — это то, что, если вглядеться, под ногами у нас целое сокровище. Мы не можем выйти из дома, мы не можем снять маски, мы два года просидели, боясь невидимого микроба, но, в конце концов, у нас есть история, сюжеты, легенды, у нас есть наше любопытство. И сейчас, когда в значительной степени связи разлажены, прерваны, у нас все равно остается книга. Книга — возможность перенестись в другие эпохи и проецировать себя в совершенно другие сюжеты.
РОМАН-НАПОЛЕОН И КОЛЕСО БЫТИЯ
У Энара книга построена по принципу, я бы сказала, торта «Наполеон». По-французски это mille-feuille, то есть тысячи слоев. Это в нашей кулинарной традиции у нас его назвали «Наполеон», и упомянуть о Наполеоне вполне уместно, потому что он является одним из героев этого романа. Среди многочисленных перебросов сюжета из прошлого в будущее, среди многих ключевых сцен французской истории, которые, как оказывается, происходили в этом департаменте Дё-Севра, есть эпизод с Наполеоном, который едет туда в момент своего краткого возвращения к власти после бегства с острова Эльбы. Там он проводит ночь в гостинице. Рассказывается судьба Наполеона от лица не совсем привычного персонажа — самки клопа постельного, которая ползет по его ноге и в конце концов падает жертвой императорской десницы. Так Энар прихлопнул одного из героев этого романа.
Энар — буддист. Это великое колесо жизни, в которое забрасываются судьбы, а дальше, в зависимости от того, что они заслужили своим предыдущим существованием, они превращаются либо во что-то симпатичное, либо во что-то совсем уже пресмыкающееся. И оказывается, что у Энара любые движущиеся объекты, вплоть до мокриц, которые ползают на полу в ванной, — это персонажи, и мы потом узнаем, кем они были, и кого он пытается щедро истребить с помощью бытовой химии.
ТАК БАНКЕТ ИЛИ ПИР?
У французов, как вы понимаете, особое отношение к кухне, не случайно французская кухня не так давно была признана ЮНЕСКО объектом нематериального культурного наследия. У французов кухня, еда, пища телесная, неразрывно связана с беседой и с церемониалом застолья. Они едят строго по часам и в строгом порядке. Невозможно приступить к следующему блюду, если на столе осталось предыдущее. Сидящие за столом должны одновременно переходить от одного блюда к другому, и застолье выстраивается как концерт. В нем есть увертюра, одно, второе, третье действие как части, и есть финал, приводящий к апофеозу, когда все одновременно едят одно и тоже, гармонизируют свои мысли и ведут общую беседу. Локальная беседа за столом — это большая неудача. Беседа должна оркестроваться — каждый выступает по очереди. Хозяин и хозяйка застолья обязательно сидят друг напротив друга в разных концах стола, чтобы перемигиваться и иметь возможность передавать слово от одного к другому. Таким образом, уже в базовом застолье состояние духовное и эмоциональное связано с приемом пищи, но виды этого застолья бывают разные. Что такое банкет? У Энара называется именно банкет, и это было бы идеальное название для русского языка. Дело в том, что банкеты особенно прославились во второй половине XIX века, в эпоху Наполеона Третьего, когда была усилена цензура и запрещены митинги. И тогда политические речи стали произносить во время банкетов — в виде застольных речей. Отсюда в русский язык и вошло выражение «разговоры в пользу бедных» — с критикой общества выступали во время еды. То есть в данном случае центральный эпизод романа вполне мог бы быть банкетом — еда и под нее важные речи, обсуждение чего-то. Но дело в том, что он ведь ссылается на пир Гаргантюа, и этот банкет могильщиков происходит в аббатстве Майлезе, том самом, с которого Рабле писал свое Телемское аббатство, и где, кстати, скрывался и Франсуа Вийон. Необходимо было протянуть какую-то ниточку к литературной традиции. Пир Гаргантюа по-французски — нарицательное выражение, это обжорство, мы помним, что Гаргантюа подкатывают десятки быков, и он все это съедает. Тут то же самое — один из председателей застолья постепенно все ниже опускает голову, в конце концов падая щекой на скатерть, пытается вспомнить, что он съел, и из последних сил подтягивает к себе последний бокал шененского вина (Шенен Блан), которое пытается выпить, наклонив бокал к себе, чтобы оно само затекло, — конечно, это именно пир. У самого Гаргантюа тоже banquet — пир. Поэтому, идя по стопам великих предшественников, поставили в название романа слово «пир».
ПОГРЕБАЛЬНОЕ БРАТСТВО
Когда я готовилась, я стала слушать все интервью Энара, и в одном из них он довольно подробно рассказал, что у него давно бродила такая мысль — сделать роман на материале его родных мест и местных легенд, но он не знал, как все это связать и придать всему этому философскую глубину и плоскость. И эта идея пришла ему в Праге, когда он посещал знаменитое старое еврейское кладбище, которое уже стало героем литературы — замечательного романа Умберто Эко, где рассказывается о генезисе другой великой литературной мистификации, навлекшей много бед, — это заговор сионских мудрецов. И вдруг я вспомнила, что тоже была на этом пражском кладбище, и там, при кладбище, есть маленький музейчик, куда все ходят. Кладбище потрясающее — это крошечный кусочек земли, который весь утыкан памятниками. Оно существовало много веков, поэтому хоронили поверх, а памятники поднимали — там много-много этажей жизни еврейского сообщества Чехии. И рядом домик, в котором находится музей этого кладбища. И я вспомнила, что этот домик называется «Дом погребального братства» и что реально эти братства существовали. В еврейской ашкеназской традиции это были благотворительные общества, которые занимались сбором денег на уход за кладбищами и куда принимали одного члена семьи могильщиков или людей, которые занимались уходом за кладбищем. Как только отец умирал, сын мог занять его место, поскольку ремесло передавалось по наследству. И сохранились кубки этих братств — невероятно красивые — это такие большие чаши серебряные с крышкой, на которых вырезаны имена за много веков всех членов этого погребального братства. И действительно, раз в год эти члены погребального братства собирались вместе, с едой, где они обсуждали насущные проблемы. Мало того, оказалось, что эти кубки погребального братства есть у нас в музее истории религии, и об этом мне рассказал, страшно меня стыдя, великий наш питерский историк, знаток иудаики — Валерий Дымшиц, который сказал: «Кааак, вы не видели кубки погребального братства?!» Пошла и посмотрела — они есть и очень красивые! Так что Матиас Энар очень много знает, и приходится каждый раз ловить его за руку — где он рассказал то, что действительно существует, и где он немножечко приукрасил, добавил, прифантазировал, потому что фантазия у него тоже буйная.
ФРАНЦУЗСКИЙ ФОЛЬКЛОР
По этой книге можно написать диссертацию или научную работу точно. В романе есть шесть перебивок сюжета, которые называются песнями. И в самом тексте они никак не обозначены, только в оглавлении идет название песни или первая строка. Это песни народные. Во Франции Людовиком XIV была основана академия, которая занималась фиксацией французского языка, и в этот же период примерно фиксировалось народное творчество, то есть эти песни были записаны, зафиксированы в своем каком-то каноническом виде где-то в XVII-XVIII веках. Они, конечно, существовали гораздо раньше и существуют до сих пор, их поют шансонье, в школе, и в этих песнях говорится о вечных сюжетах: разлука, любовь, изгнание, надежда, просьба о любви, но, конечно, непосредственный сюжет, который лег в основу этих песен, давно потерян в веках. Энар делает любопытную операцию — он берет то, что могло бы быть сюжетом этой песни, и забрасывает в другую эпоху. Читатель, когда читает вставленную новеллу, никак не связанную с содержанием, которая называется песней, вдруг вспоминает — а ведь об этом поется! И заканчивается обычно последними словами песни. Зачем он это делает? С одной стороны, мне кажется, для того чтобы показать, что не только характеры и люди перерождаются из эпохи в эпоху, но кочуют и сюжеты. Одни и те же перипетии человеческой жизни бывают и у нас, они были, люди мучались тем же — любовь, изгнание, тоска по родине, сиротство, потеря детей — это все было трагедиями и гораздо раньше. Спеть об этом — это еще значит перебить интонацию. Ведь застолье обязательно с песнями. Ко дворам французских королей приходили труверы, исполняли свои трагические песни (труверы тоже будут в этом романе). И здесь он синтезирует пир со вставными номерами из песен из своего романа. Мне кажется, он это делает за этим. Там есть еще какие-то подмигивания читателю, более сложные, которые распознают те, кто лучше знает французскую литературу.
ГУГЕНОТ И МАЛИНОВСКИЙ
Например, песня «У светлого ручья». Исполняется она до сих пор, есть и в женском, и в мужском варианте. Сюжет ее такой: «Я остановился у светлого ручья, и вода была так прозрачна и так прекрасна, что я окунулся. Я поднял голову, надо мной на ветке пел соловей — пой соловей пой, у тебя на сердце радость, у меня тоска, я потерял свою возлюбленную, потому что я не дал ей розу, не разрешил собрать букет цветов (в женском варианте это, видимо, не разрешила что-то в отношениях), и теперь я с ней расстался, и теперь я ее потерял навсегда и никогда не забуду». В романе — это новелла о том, как идет изгнанник, человек, который бежал из Франции, после того как Людовиком XIV был отменен Нантский эдикт против преследования гугенотов после Варфоломеевской ночи. Они стали в равных правах с католиками, но он принял следующий эдикт, Фонтенбло, по которому снова гугенотов стали притеснять. И вот этот человек идет по лесу, это лес Новой Каледонии, то есть Канады, — он бежал за океан, от преследований, он купается и вспоминает Францию, он трогает шрам от удара гусара короля, то есть мы понимаем, что он гугенот. Он вспоминает о своей возлюбленной, над ним поет соловей. Мы знаем, что французы действительно бежали за океан и чаще всего они селились в Луизиане и реже в Новой Каледонии. Почему здесь Энар отправляет своего героя в Новую Каледонию? Я думаю, потому что в Новую Каледонию бежал Малиновский — чешский еврей. Он бежал от фашистов, от другого преследования, тоже, можно сказать, крестового похода против коммунизма и еврейства, который начал Гитлер. Мне кажется, что вот здесь история закольцовывается... Но! У Энара настолько все сложно сшито, настолько сложные швы, что распутывать можно бесконечно.
ВОЛОВАН С ГРЮЙЕРОМ
Пир — это дико сложный кусок перевода, потому что его просто невозможно переводить. Когда вы говорите: «...волован с грюйером, запивая шабли...» — все слова иностранные. И за каждым из этих слов не всегда стоит образ. Не каждый день мы едим волованы и Грюйер, хотя это швейцарский сыр. Тут надо было сделать что-то такое, чтобы прямо интонационно просто слюнки текли. В таких случаях переводчики ищут какой-то литературный образец в родной литературе, литературе родного языка, на который можно ориентироваться. И если в сценах распития я ориентировалась, наверное, на Веничку Ерофеева, то тут, скорее всего, на Гоголя, потому что вот это гедоническое восприятие жизни со всеми ее запахами, получение удовольствия от всего, от вида, от просвечивающего вина, все это сродни, конечно, с одной стороны, пиру у Губернатора, с другой стороны, есть гениальный персонаж в «Мертвых душах» — Петр Петрович Петух, который укармливает Чичикова. Сначала он не дает ему спать, перечисляет — как надо завернуть пирог, чем надо его полить и прочее, а Чичиков уже просто не может есть. И там есть эпизод, который наверняка все помнят, когда Петух ему говорит, что там, где-то было полно народу, неужели не взойдет городничий — взойдет, как этот пирог взойдет! И в «Старосветских помещиках» изумительное совершенно описание узвара с отрубями. Надо было сделать что-то такое, я очень старалась, я смотрела переводы великих кулинарных книг, Эскофье... — трудно. Я надеюсь, что справилась, что кулинары не будут протестовать, что я ничего не перепутала. Описания цвета, запаха, вкусовые ощущения вина — очень сложно. И специфически очень. С одной стороны, это не должно быть терминологически, а должно быть свежо и непосредственно, с другой стороны, мы не можем назвать одно другим — это должно быть очень точно.
ОРКЕСТРОВКА ЯЗЫКА
Вы знаете, это такое счастье, когда попадется такая трудная книга, что думаешь — нет, ну не взять такую высоту. Потому что, с одной стороны, герои говорят очень разными стилями, с другой — они говорят разным французским языком, и очень архаичным. Французский язык и русский сформировались в своей нормативной современной форме в разное время — у французов на век раньше, чем у русских. У нас наш современный язык сформировался за жизнь Пушкина и в значительной степени им самим. Первые стихи Пушкина очень архаичны, а поздние его произведения читаются совершенно как современные. Значит, как переводить архаичный французский язык? Переводить языком Ломоносова? Переводить его архаическим русским? Получается совершенно не туда! Значит, надо сделать какую-то тонкую подтасовку, какую-то тонкую оркестровку. Вторая неразрешимая задача — это региональные диалекты. Они ведь обладают огромным комическим эффектом. Вспоминая фильм Мимино, «я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу», если записывать этот акцент, то это очень забавно, — потому что смысл понятен, а сказано немножко не так. Что делать в таком случае с французским языком? Пытаться переводить региональным диалектом, но регион-диалект очень привязан к местности. Получается, герой будет говорить, как грузин, — и это сразу будет очень видно. Либо он будет окать — и говорить, как житель Вологды... Но что делать? Надо как-то очень-очень дозировать. Этому посвящено огромное количество научных работ, но я несколько скептически отношусь к научному подходу в переводе, мне кажется, что общих правил нет, есть какой-то слух, чутье переводчика, и есть то, что готов принять читатель, если он настроился на одну волну с голосом автора, транслируемым переводчиком, то тогда проходит.
ТОЛЬКО В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ
В романе есть эпизод, где идет допрос молодой женщины, которую подозревают в том, что она ведьма, и она подозревается в убийстве. Кто-то, видимо, пытался ее изнасиловать или схватить, и она кого-то стукнула камнем. И ее допрашивает прокурор, действие происходит где-то в 930-е годы. Суд присяжных — из местных крестьян. И она рассказывает, а прокурор — городской житель, говорящий на понятном мне французском языке, он не понимает, что она говорит. Какие-то обрывки смыслов доходят, понятно, что она рассказывает что-то страшное, но подробности не понятны — и от этого становится еще страшнее. Ее частично переводит помощник прокурора, секретарь из местных. Он переводит отдельные слова. И эта страшная история доходит до нас почти как легенда. Нам не все понятно. И тут, конечно, встал вообще вопрос неразрешимый: как это переводить? Потому что вообще непонятно. То есть сделать какие-то разлюли, архаику: «каков вскочивши он на меня»? Ужасно звучит. И возникает комический эффект, который в этой трагической, в общем, истории совершенно неуместен. Делать региональный: «и шо бы он подумал?» — ужасно. Она молодая девушка, а получается какая-то старушка. Была неразрешимая задача. Сначала я спрашивала французских лингвистов, которые сказали, что ничего не понимают в том, что она говорит. Кроме переводов секретаря — ничего не понимают. Я написала Энару. У нас с ним нашлись общие друзья. Энар тут же ответил, сказал, что да, конечно, он нарочно так сделал, и разные переводчики использовали разные решения. Испанская переводчица вообще не меняла ничего в тексте, оставила ее речь так, как есть. Но этот диалект — недалеко от Испании. И испанцам было понятно примерно столько же, сколько французам. Испанка справилась со своей задачей на пять. Как переводил немец? Немец решил сделать швейцарский диалект немецкого, чтобы она говорила странно, но понятно. И Энар, который сам знает все языки в мире, прочитал и сказал, что получилось немножко смешно — в результате эта колдунья деревенская говорит, как кассирша из швейцарского банка. А что же нам-то делать для русского читателя? И я предлагаю такой вариант: оставить все это латиницей, оставить ее речь так, как есть. И чуть-чуть увеличить роль секретаря суда, пусть он переводит нам чуть больше, поясняет. Энар хлопнул в ладоши и сказал: да, мы сделаем для русского читателя чуть-чуть по-другому! Я дописала то, что мне казалось необходимым, он одобрил, и в таком виде этот эпизод выйдет. Посмотрим, как это примет читатель, конечно, но такого, как у нас, не будет ни у кого. Мне показалось, что другие решения будут хуже. Я изначально сделала перевод этой главы фольклором, как меня попросил редактор. Редактор оценил, сказал, что, в общем, смешно, но мы этим путем не пойдем.
РОМАН И ВОСПИТАНИЯ УМА, И ВОСПИТАНИЯ ЧУВСТВ
Этот роман удивляет на каждой странице. Он совершенно запутывает следы, я пыталась себе представить, как можно сочинить такой роман, такое многофигурное полотно, где все сочетается, где все имеет изнанку, где каждый герой оказывается другим, и в конце концов происходит синтез — того, что мы первоначально о нем подумали, того, что мы о нем узнали дальше, и наметка какой-то будущей судьбы. Он дико смешной местами, очень смешной! Потом оказывается, что он нас заманивает этим смехом, усыпляет наше внимание, для того чтобы потом тем острее мы прочувствовали контрасты, что рядом могут происходить ужасные трагедии. Но ни одного из героев он не судит и не осуждает. Там нет героев — законченных мерзавцев, каждого из них можно понять. Для меня была сложнейшая глава в середине, которая называется «А теперь сыграем в карты...» В центральном месте социализации этой деревни, в единственно оставшемся кафе, где одновременно продают и рыболовные какие-то там крючки, и червяков, и все прочее, сидят четыре героя и играют в карты. В региональный вариант игры белот. Я не картежник вообще, мне пришлось в этом разбираться, изучать раскладки, и для человека, который понимает, что такое белот, есть душераздирающая ситуация, когда сильному игроку не идет козырь. Это дико увлекательно, это очень точно и это от бытовой ситуации поднимается до уровня судьбы, которая играет человеком. За это время мы узнаем историю всех четырех играющих и, в том числе, подглядывающего за ними буфетчика. Это такой роман в романе. Многие главы могут быть отдельными эпизодами, которые вставлены в рамочную конструкцию из дневника Давида Мазона. В герое идет борьба между умом и сердцем, и оказывается, что ум, который он считает своим главным козырем, это чистая фикция, это просто нахватанность, начитанность, а сердце его оказывается еще совершенно не разбужено — это роман и воспитания ума, и воспитания чувств.
Хотелось бы, чтобы читатели сумели получить от этой книги такое же удовольствие, как я за переводом. Мне кажется, что этот роман можно сначала проглотить, а потом читать с любой страницы и узнавать что-то новое. Так что — читайте!